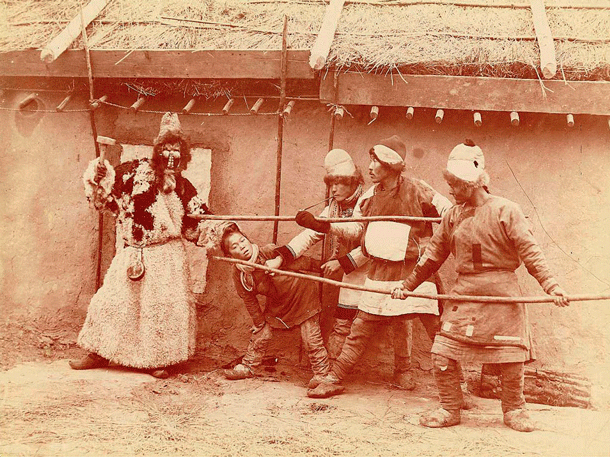Текст: Соломонов Артур
Фото: Мария Ноэль, humus.dreamw.dth.org, из личного архива иеромонаха Никанора Лепешева
Другая, отличная от московской жизнь начинается уже в десятке километров от МКАДа. Тем более она другая — за десять тысяч километров от столицы. В глубинке люди сталкиваются с тяжелыми социальными проблемами. А многие — в прямом смысле с проблемой выживания.
В Сикачи-Аляне несколько улиц. Два-три десятка домов стоят на берегу Амура. Жители занимаются преимущественно рыбной ловлей, а потому от дома до работы им идти несколько минут. Июнь здесь — лучшее время года: уже не холодно, но и не пришла жара, не прилетели из тайги несметные стаи гнуса. Это произойдет в июле.
Предки современных нанайцев пришли на эти территории пять тысяч лет назад. Неподалеку от Сикачи-Аляна находятся знаменитые на весь мир древние петроглифы — выдолбленные на базальте изображения животных, охоты и шаманских масок. Некоторым, еще донанайским, десятки тысяч лет, некоторым — не более пятисот.
Село стоит на месте древнего нанайского стойбища, здешние жители — наследники культуры древнего народа. Но что наследуют наследники? Можно ли сохранить традиции своего народа, живя маленьким, всего в несколько сотен человек, сообществом под боком у большого русского города с населением 800 тыс. человек?
Голова демона
Меланья Янина — самая старая жительница села, хотя ей нет еще семидесяти. Мы сидим с ней на скамейке рядом с двухэтажным зданием, где под одной крышей — сельская администрация, школа, детсад, клуб, спортзал, два музея, столовая, медпункт и библиотека. Неподалеку — телефонный автомат, перед которым в ряд аккуратно выстроились три красные урны, как солдаты, ждущие приказа командира.
Меланья Янина — старейшая жительница села Сикачи-Алян, Хабаровский край
На Меланье Демьяновне голубая кофточка и цветастый платок, такие обычно носят в русских деревнях. Говорит она неохотно, даже поначалу недоверчиво. Не понимает моего интереса: не этнограф, песен не собираю, сказок рассказать не прошу, а спрашиваю о том, как прошла ее жизнь.
— Я до девяти лет жила с матерью в низовье Амура, в селе Тахта, — наконец начинает она говорить, не глядя на меня. — У мамы была семья, муж и дети, но меня она родила от другого мужчины.
Про то, что в среде малочисленных народов Дальнего Востока допускались и даже приветствовались полигамные отношения, слышать приходилось. В XIX веке, а тем более еще раньше, они были повсеместными. А законы гостеприимства у некоторых народов даже обязывали хозяина дома предложить гостю, оставшемуся на ночлег, свою жену. В советское время полигамия официально не была разрешена, но реально существовала, и власти на нее смотрели сквозь пальцы.
— В 1955 году отец забрал меня в Сикачи-Алян, в свою семью. У него было еще пятеро детей, я стала шестым ребенком. Моим воспитанием занималась бабка. Здесь я пошла в школу. Тогда народу в селе много было, больше, чем сейчас, намного больше. Все мои одноклассники и одноклассницы уже умерли. С кем поговорить? С кем вспомнить? А недавно и моя подруга умерла — последняя… В селе жила шаманка, бабушка меня к ней водила, когда я болела. Она брала в руки бубен и вокруг меня плясала. Она искала мою заболевшую душу в иных мирах, чтобы излечить ее и вернуть.
— Шаманка могла вылечить человека? Могла помочь?
— Да чем она помогала… Мы в нее не верили… Мало кто верил… Потом она умерла. Вот бабушка моя, она еще верила, что шаман может прогнать болезнь, может будущее предсказать… Бабушка на каждом шагу демонов видела. Вдруг как начнет кричать: «Демон! В доме демон!» И все — отец мой, его жена и сама бабушка — начинают вопить: «Га! Га!» — они верили, что этими словами можно прогнать демона. Иногда бабушка ночью начинала кричать, что демон рядом, и все вместе кричали «Га! Га!» А однажды бабка меня совсем уже напугала. Мы возле печки спали с братцем, и ей показалось, что сверху на меня упала голова демона. Она завопила: «Ой, на ребенка голова свалилась, голова демона упала на ребенка…»
Рассказывая это, женщина смущается и смеется.
— Вам смешно это вспоминать?
— Ну конечно, потому что мы, дети, просыпались от крика, и мы боялись, но никаких чертей не видели. Но тогда еще чуть-чуть в них верили… Теперь уже никто этих демонов не видит, никто в них не верит. Живет в нашем селе внучка шаманки, она пытается что-то делать, но не получается у нее. Нет у нас шамана.
— А где есть?
— Говорят, в верховьях Амура живет один…
При упоминании о шаманах ей становится скучно, и она этого не скрывает.
«Некогда сказки рассказывать»
— Вам бабушка рассказывала об истории вашего народа?
— Не очень-то рассказывала, — говорит Меланья Демьяновна. — Говорила, что жили они с семьей в землянке, занимались охотой и рыбалкой. Бабушку звали Саси… А меня уже назвали русским именем.
— А она рассказывала, как русские осваивали Дальний Восток?
— Говорила про каких-то солдат, про какие-то окопы, но очень мало, и я не помню ничего… К русским нормальное отношение всегда было, нормальное.
— А сказки, легенды?
Нет, качает головой моя собеседница, не было этого.
Неужели, спрашиваю, бабушка не переживала, что традиции уходят, что внуки не верят в шамана, не видят демонов?
— Некогда ей было переживать. Она все время работала. Крепкая у меня была бабка… А после школы я уехала в низовье Амура и стала там работать. Рыбу обрабатывала. Если на поля колхозные посылали — на полях работала. Нищета была, страшная нищета… Потом я обратно вернулась, тут тапочки шила, почтальоном работала. А потом меня на пенсию отправили. Теперь не работаю. Одна сижу дома. Вот и вся моя жизнь.
— Какое же время жизни было самым лучшим?
— Когда молодая была. А потом — что хорошего? Дети пошли, я работала, не разгибаясь. Жили мы так бедно, так плохо… Муж у меня в колхозе работал, и зарплата была в 60-е годы 10 рублей. И на них мы жили. Мы с мужем и наши шестеро детей. Спасались тем, что рыбу ловили, картошку садили. Я просыпалась утром и сразу начинала думать: из чего мне делать семье завтрак? Но в школе кормили детей тогда бесплатно, и это нас спасало. Сейчас, конечно, намного лучше жить стало, очень лучше. Только почему-то никто не работает и все пьют. Наши отцы работали с утра и до вечера, рыбачили, охотились, а сейчас я смотрю на молодых — ни у кого нет работы, и никто не ищет работы… У меня от первого брака шестеро детей, и от второго — пятеро… Или наоборот? Не помню уже, — смеется Меланья Демьяновна.— С первым мужем я прожила девять лет, и он умер, со вторым — 23 года, и он тоже умер. Уехал в Хабаровск подтверждать инвалидность свою и не вернулся. Выпил где-то с кем-то — и сердце не выдержало… Нашли его уже замерзшего… 56 лет ему было…
«Женщины еще работают — в школе, в огороде, шьют что-то, а мужчины… Добудут где-то водку и пьют»
Говорим о том, какая большая проблема — алкоголь. Много молодых в селе умерло от водки, даже дети пьют.
— Многие с собой кончают, когда напьются, так им плохо, что лучше повеситься… Нет каких-то элементов в крови у нас, говорят…
И тут, словно специально для того, чтобы как можно нагляднее проиллюстрировать слова моей собеседницы, к скамейке, солидно пошатываясь, подходит нетрезвый мужчина лет сорока. Форма одежды — спортивный костюм. В глазах — желание опохмелиться. Встает напротив нас и начинает подмигивать Меланье Демьяновне. Делает это усердно, давая понять: ему есть что сказать. Не выдержав упорно-молчаливого подмигивания, я спрашиваю:
— Это ваша бабушка?
— Конечно, это моя бабушка. А как же.
— Ну чего ты врешь? — Меланья Демьяновна сердится. — Какая я тебе бабушка? Это односельчанин мой.
Мужичок упорен:
— Рыбу купишь? Рыбу? Нет? А что ты тут? Журналист? Так платить за интервью надо.
— Иди уже, — машет рукой женщина, и он покорно уходит.
— Мой сын такой же… Беспробудный… Женщины еще работают — в школе, в огороде, шьют что-то, а мужчины… Добудут где-то водку и пьют… Совсем другие времена настали… Отцы наши пили, конечно, но не так.
Рукавички и адидас
К школе подъезжает машина. Из нее лениво выходит русский мужчина, лениво открывает багажник и, положив руки в карманы, медленно отходит в сторону. Таково начало ритуала: постепенно к машине начинают стекаться люди. В багажнике — китайский ширпотреб.
К нашей скамейке подходит женщина, мрачновато здоровается со мной и просит у Меланьи Демьяновны 300 рублей. «Дочь моя», — объясняет Мелянья Демьяновна, протягивая ей три сторублевые бумажки. Через несколько минут дочь возвращается уже не столь хмурая и демонстрирует приобретенную для мужа футболку-адидас.
— У нас в школе продается много наших национальных товаров, — объясняет Меланья Демьяновна, — и тапочки наши, и рукавички расшитые…
— Значит, традиции все же как-то продолжаются?
— Ничего не осталось от наших традиций. Кто-то пытается петь, танцевать, как наши предки… Ну и что? Все равно мы с этим не живем, мы не понимаем, как надо…
Я вижу, что моей собеседнице непросто подбирать слова.
— А думаете вы на каком языке?
— Я? На русском. Сейчас не с кем мне поговорить на нанайском. Все умерли… Молодые не говорят на нанайском. Сама с собой говорить, что ли?
Меланья Демьяновна снова смеется. Говорит, что по-нивхски — мама у нее нивхка была — последний раз разговаривала, когда ей было 10 лет. Пока была жива бабушка-соседка, с ней иногда говорили по-нанайски, и все. Детей в школе нанайскому учат, но между собой они говорят по-русски.
В нанайском селе. Ритуальная сцена. Конец XIX в.
— Второй муж у меня русский был, я его в Кульдуре нашла и сюда привезла, в наше село. У него были дети в Рязани до этого, но он решил остаться здесь, со мной. Я его научила всему — и рыбачить, и дрова пилить… Он даже бревнышко в руках держать не умел. Но его потом поймали за рыбную ловлю. Рыбу же ловить сетью нельзя было, если не для колхоза… Для себя — только удочкой. И оштрафовали нас… Ничего нельзя было. Нельзя было рыбу ловить сетью. Нельзя дрова было рубить. Чтобы в лесу дров нарубить, надо было билет получать. Это и сейчас так, у меня вот один из внуков тоже оштрафованный за то, что рубил лес без билета…
Спасатель
К скамейке подходит мальчик лет двенадцати — внук Меланьи Демьяновны. Спрашиваю, кем он хочет быть.
— Никем… Или спасателем. Спасать людей из Амура.
Все дети, внуки и правнуки Меланьи Демьяновны живут здесь, в Сикачи-Аляне.
— Сколько их всего?
— Не знаю, не задавалась я этим вопросом, — смеется она. — Наверное, человек 15–20, так где-то…
Если так много родственников, говорю я Меланье Демьяновне, то ей, должно быть, не скучно здесь жить.
— Бывает, никто не приходит. Сидишь и в телевизор поглядываешь целый день.
— О чем вы думаете чаще всего?
— Я? — она снова смущается и смеется. — Ни о чем.
— Вы себя чувствуете нанайкой, нивхкой или русской?
— Не думала я об этом… Не знаю.
— А что вам больше всего нравится вспоминать?
— Ничего я не вспоминаю. Детство? Нет. Мужей своих? Нет, не вспоминаю. Жалею только, что все время одна…
Когда Меланья Демьяновна прощается и уходит, тут же ее место на скамейке занимает нетрезвый внук-самозванец.
— Хорошо. Не хочешь ты рыбу. А на лодке покататься? Нет? По Амуру? Нет? Эх, трудно стало… Вот когда жил я в Якутии…
— Так вы якут?
— Какой я тебе якут? — обижается он. — Я нанаец.
«Малые народы в буднях великих строек были не нужны»
Автор – Петр Гонтмахер, этнограф, исследователь малочисленных этносов Дальнего Востока
В газете «Приамурские ведомости» в конце позапрошлого века писали: «Вывешивание российского флага на берегу Амура проходило при благосклонном молчании малых этносов». Благосклонное молчание… Интересное словосочетание, да? Ну а что им оставалось делать? Они вряд ли могли предположить, что последствия прихода русских будут катастрофическими для их культуры. Но, с другой стороны, в этом есть определенная закономерность: мощная культура всегда аннигилирует слабую.
На мой взгляд, советская политика в отношении малых народов отличалась от предреволюционной в худшую сторону. В 30-х годах стали отнимать у родителей маленьких детей и отдавать их в интернаты. Естественно, в этих интернатах ни о каком обучении национальным языкам и традициям не могло быть и речи. Дети были окружены русским языком, окружены русскими воспитателями и преподавателями… И малые народы стали забывать многие виды искусства, забывать свои языки.
Участники национального обряда в нанайском селе. Конец XIX в.
Малые этносы жили бедно — только рыбалка и охота, да и на них были установлены квоты. Потому отдать ребенка — это избавиться от обузы. А в обмен на это государство возвращало в семью человека, лишенного культуры и традиции. Можно же было преподавать им язык, знакомить с традициями? Но этого не было сделано, потому что, как я думаю, существовала задача — нивелировать традиции. Нужны ли были эти народы с их шаманами, с их языческой культурой «в буднях великих строек»?
Сейчас возникает ситуация, когда ученые знают язык и культуру малых народов лучше, чем они сами. И это для этнографов очень плохо — они теряют предмет исследования. А для возрождения практически ничего не делается — ни самими представителями малых народов, ни русскими.
А я еще помню удивительных стариков, которые родились в позапрошлом веке. Например, в селе Ноглики на Сахалине жили бабушка Вакзук и дед Пулкун. Они были замечательными знатоками культуры малых этносов. Пулкун знал несколько языков, на которых говорили малые народы. Вакзук знала множество легенд, сказок. Она могла рассказывать сказки целый день подряд. Когда она уставала, слушатели сами начинали повторять то, что она говорила, и даже развивать сюжет. Это было настоящее коллективное творчество, это был, если хотите, хор — в философском смысле. Слушатели вдохновляли ее, и она, передохнув, продолжала рассказ.
В свое время главным ударом по малым народам стало преследование шаманов. Многие отправлялись в тюрьмы. А тем, которые оставались на свободе, было практически запрещено проводить обряды, нельзя было камлать. А ведь шаман — это главный хранитель культуры, в нем сосредоточено все — и язык, и знание ритуалов, и верования, и связь с богами и духами предков. И вместе с тем шаман — носитель устной традиции, легенд и мифов, которые не были зафиксированы, а передавались от поколения к поколению. Эту связь прервали.
Культура малых народов Дальнего Востока сейчас на грани исчезновения, она потеряла способность к самовоспроизводству. Но я бы посмотрел на проблему выживания национальных культур шире. Русские деревни и села тоже исчезают. Там тоже люди не имеют работы, тоже спиваются. Но у нас есть огромные города. А у малых народов — только села. Процесс, идущий по всей России, бьет по малым этносам, и боюсь, что это уже последний удар.
«В одном из сел молятся «о многострадальном нанайском народе, угнетаемом русскими»
Автор — иеромонах Никанор Лепешев, руководитель комиссии Приамурской митрополии по работе с коренными малочисленными народами
К одной из очередных годовщин города или края на улицах Хабаровска развесили плакаты с изображениями русских первопроходцев и надписью «Первые на Амуре». И один нанаец в беседе со мной обиженно восклицал: «Как это так?! Русские что, на безжизненный Марс высадились, когда на Амур пришли?!» Так что порой наталкиваешься на уязвленное национальное самолюбие. Этот комплекс возник, конечно же, не без нашей — русских людей — вины. Но иногда он приобретает совсем уж гипертрофированные формы. В некой протестантской общине в национальном селе молятся «о многострадальном нанайском народе, угнетаемом русскими». Но лично мне, слава Богу, с такими крайностями почти не приходилось встречаться.
Иеромонах Никанор Лепешев и баба Дуня
Жизнь в национальных селах сегодня очень трудна: ограничено пользование речными и лесными ресурсами, нехватка рабочих мест, безработица, как следствие — повальный алкоголизм, наркомания, сильный отток населения, самоубийства…
Из блога отца Никанора
«За время моего отсутствия в Сикачи-Аляне похоронили двух старушек-старожилок: бабу Дуню и бабу Катю.
Баба Дуня умерла язычницей. Христос и православие были ей, к сожалению, интересны лишь в качестве одного из возможных средств поправить здоровье, а меня она воспринимала как «русского шамана». Сама она, кстати, понемножку шаманила и гадала и даже слыла местной «Вангой». Жизнь баба Дуня прожила очень трудную и скорбную. В этих невзгодах она показала себя незаурядным человеком. Чего стоит только следующая история.
Однажды в очередной пьяной семейной ссоре невестка бабы Дуни зарубила топором своего мужа — ее сына. Причем, как рассказывают, баба Дуня заранее предсказала своему сыну смерть от руки жены, если он не перестанет поднимать на нее (на жену) руку. Зрелище было страшное: все стены и пол в доме были залиты кровью и забрызганы мозгами. Приехала милиция. Но баба Дуня отказалась писать заявление на свою невестку или давать показания против нее, мотивируя это тем, что она мать ее внуков, а детям без матери будет очень плохо. В итоге баба Дуня спасла убийцу своего сына от тюрьмы. И простила ее. А горе перенесла стоически. Причину происшедшей трагедии она видела в «родовом грехе» — в том, что ее отец когда-то застрелил невинного человека.
Вторая новопреставленная — баба Катя — за пару месяцев до смерти крестилась и причастилась. Она очень болела в последние годы: и рак, и какая-то болезнь ног, и много еще чего… В общем, родным приходилось ухаживать за ней, как за ребенком. И когда баба Катя захотела принять крещение и причастие, я, естественно, совершил эти таинства на дому. Вместе с ней тогда крестилась ее дочь Лилия.
И вот в первых числах марта, когда Лилия пошла в магазин, баба Катя повесилась… Чтобы не доставлять больше хлопот своим родным… Вообще коренные народы Дальнего Востока очень легко относятся к самоубийству. Грехом в их культурах оно практически не считается. В тяжелых жизненных ситуациях, кажущихся безвыходными, оно рассматривается как вполне допустимое, хотя и крайнее средство. И переломить такое отношение бывает крайне непросто. В случае с бабой Катей не получилось…